





Yury Favorin © 2020


Юрий Фаворин
официальный сайт
Пресса 2016
Статьи



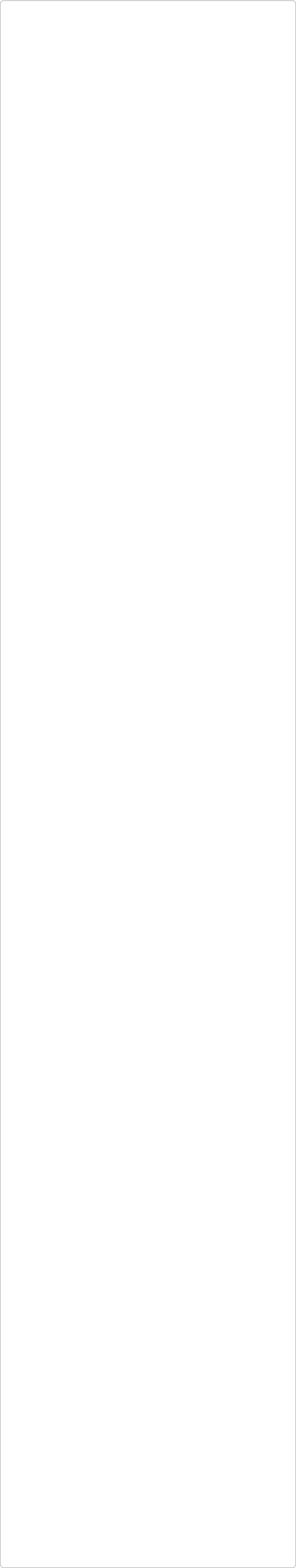
New Clavier: Сысоев, Горлинский, Фаворин, Черкасова. Беседа накануне концерта
13-го мая в московской галерее ГРАУНД Ходынка состоится второй концерт из серии «New Clavier»
в котором в исполнении пианистов Юрия Фаворина и Натальи Черкасовой прозвучат произведения
Франко Донатони, Энно Поппе, Владимира Горлинского и Алексея Сысоева. В преддверии этого
концерта его участники (Наталья, Юрий, Владимир и Алексей) встретились, чтобы поговорить на
актуальные для них темы.
А.С.: Первый вопрос у меня к Наташе и к Юре. Как вы пришли к современной музыке? Что вас
заинтересовало в ней?
Н.Ч.: Я начала заниматься и изучать современную музыку будучи студенткой института им.
Ипполитова-Иванова. Первым моим сочинением были Вариации Op. 27 Веберна. Дальше были
Шенберг, Булез, Мессиан, Денисов. Потом я просто не смогла, не захотела останавливаться.
Ю.Ф.: Надо начать с того, что я занимался композицией в школе. Тогда моим основным
инструментом был кларнет. Когда же я перешел на специальное фортепиано, эти две линии
(композиторских и пианистических занятий) слились в одну. Обращение к современной музыке
произошло случайно. Я подыскивал конкурс в интернете. Там высветился конкурс Мессиана. Надо
было играть довольно сложные по тем временам вещи. Да и сейчас сложные…
В.Г.: Какие?
Ю.Ф.: Там предоставлялся выбор: Первая Соната Булеза, Клавирштюки Штокхаузена. Этюды
Лигети. Сейчас понятно, что это хрестоматийные вещи. А я тогда еще не знал даже, где ноты
доставать. Кто-то мне помог с этим, Федя Амиров, например… Мне стало очень интересно, к тому
же я почувствовал, что это для меня возможно. Был определенный успех. Правда, тогда возникло
такое иллюзорное представление, что некий философский камень найден. Формула успеха:
сыграть максимально точно все, что написано в нотах (нас учат скорее другим вещам в той же
Консерватории). Что это делает тебя уже автоматически лучше и т.д. Но потом, когда я пытался,
например, записывать Шенберга, я сразу понял, что это совершенно не тот путь. Но это уже другой
сложный вопрос.
В.Г.: Каким образом формируется программа концерта? Допустим, вы предлагаете некую
программу, в которой наряду, например, с классическими сочинениями есть сочинение
современное. С чем это столкнется в административном смысле?
Ю.Ф.: Бывает некое давление приглашающей стороны, но в принципе оно преодолимо, и какие-то
компромиссные варианты всегда возможны.
В.Г.: Ну, например, можно ли в Большом Зале Консерватории сыграть программу, где будет
звучать, скажем, Ференц Лист и Конлон Нанкэрроу?
А.С.: (смеется)
Ю.Ф.: Смотря кому…
В.Г.: А почему тебе нет?
Ю.Ф.: Это вопрос коммерческий, помимо всего прочего. Должна быть некая непреодолимая сила,
которая, по мнению организатора, удерживает слушателя. Ею может быть либо автор, либо
исполнитель.
В.Г.: То есть, все упирается в коммерческий интерес сбора зала, и организаторы концерта не могут
пойти на риск?
Ю.Ф.: Могут, но не хотят (смеется).
В.Г.: А есть ли какая-нибудь площадка, которая бы включала в себя и классический репертуар и
современный?
Н.Ч.: Кажется, сейчас происходит следующее — есть некие места, куда приходит определенная
публика, которая знает, что она услышит там то, что она хотела услышать. Это то, о чем говорят —
людей в консерваторию не затянешь. Сейчас молодежь пойдет слушать музыку скорее в музеи,
художественные галереи. Там шире круг возможностей. Там свободнее себя чувствуешь. А вот в
концертных залах все очень академично и туда ходит только определенный слой публики.
А.С.: Ну вот, может быть, именно поэтому нам с Володей и пришла в голову мысль провести наш
концерт на «независимой» территории, в галерее ГРАУНД Ходынка, и попытаться сблизить две
достаточно независимые друг от друга области музыкальной жизни Москвы — условно
альтернативный московский круг композиторов (Володя и я), и западноевропейских академических
классиков или «почти» классиков (Франко Донатони и Энно Поппе). На мой взгляд, существует
некий разрыв между ними, который было бы любопытно преодолеть.
Ю.Ф.: Но не за счет каждой из них (смеется).
(...)
В.Г.: К современной музыке часто как будто бы неприменимо понятие «трактовки». Точно сыграл —
и уже есть. Но мне кажется, что это очень спорная вещь. Исполняющий всегда привносит очень
много. Он делает очень много шагов навстречу композитору, и они встречаются где-то на полпути в
соавторстве.
Н.Ч.: Ну как у Фернейхоу, который говорил, что пишет сверх-полифоничные полотна, сложенные из
очень непростых и отличающихся друг от друга пластов. И ему всегда очень интересно, какой из
этих пластов исполнитель выберет в качестве основы, за что в первую очередь зацепится его слух,
и как он будет выстраивать всю звуковую фактуру произведения. То есть, он каждый раз слышит
свое произведение по-новому.
Ю.Ф.: Мне кажется, что ситуация с Донатони или Булезом остается более сложной. Тот же Булез
выглядит весьма жестким в плане ограничения свободы исполнителя как субъекта, сотворца. Это
создает, мне кажется, определенные взаимоотношения непонимания между композитором и
исполнителем. Стратегии преодоления этого бывают разными. В частности, когда мы
импровизируем вместе, исполнители и композиторы, то это своего рода терапия — композитор
чувствует себя исполнителем, и наоборот. Такой опыт взаимопонимания, но он важен и для
слушателя: это опыт уравнения, сотворчества, возможный потому, что импровизатор не уверен в
своей правоте, он не контролирует все процессы и очень уязвим.
В.Г.: Я бы провел аналогию композиторской партитуры с драматическим текстом, который должен
освоить актер. Например, он в первый раз вышел на сцену, это получилось очень живо, вышел
второй, третий, четвертый раз. И в конце концов наступает тот момент, когда все ситуации,
которые есть в тексте, перестают работать, они все уже прожиты. Меня интересует, что происходит
в таких случаях у музыкантов с партитурой?
Ю.Ф.: Мне кажется, повторить несколько раз абсолютно одинаково невозможно (хотя можно найти
высказывания про Бенедетти Микеланджели, опровергающие это). В принципе, быть
исполнителем, это значит уметь изумляться одному и тому же, проходить каждый раз заново. Так
же и композитор. Когда он пишет партитуру, постоянно возвращаясь к ней, он должен ощущать уже
написанное как новое, чтобы увидеть остальное.
В.Г.: А в случае условного «Булеза», который мы неоднократно уже обсуждали, когда текст
настолько точен, что он требует абсолютно строгого прохождения через все ступеньки. Что это
значит при исполнении?
Н.Ч.: Ты настолько вживаешься в этот текст, что начинает казаться, что иначе и не может быть.
Любая фальшь режет слух еще сильнее, чем в тональной музыке. Потом ты обнаруживаешь, что
чем менее ты скован текстовыми задачами, тем более исполнение становится для тебя чем-то
вроде свободной импровизации, в которой ты играешь теми точными гранями, навыками,
формулами, структурами и даже рефлексами, приобретенными за время достижения той самой
текстовой точности. Высвобождается энергия для эмоционального переживания. В этот момент
именно через него отражается текст. И ты начинаешь дышать уже в этом новом измерении.
В.Г.: А каким образом отражается текст? Допустим есть образное мышление, когда абстрактный
музыкальный текст наделяется образами физического мира. А какие еще существуют техники, с
которыми работают исполнители?
Ю.Ф.: Это на самом деле некий гибрид моторной, слуховой и конструктивной логики и памяти.
Когда они соединяются в целое, ты можешь следовать за этим текстом как за чем-то своим,
присвоенным тобою. В каком-то смысле это становится частью твоего тела.
У меня вопрос к Леше. В какой мере опыт джазового пианиста влияет на вас, как на композитора?
И может ли он оказать влияние в будущем — на другом уровне?
А.С.: В какое-то время в консерватории он оказал на меня пагубное влияние. Я стал замечать,
например, что использую странные в новом контексте квартаккорды, их примитивные восходящие
или нисходящие секундовые секвенции. Все это отдавало неприятной «джазовостью» и
фактически не имело смысла. Это нехорошо, конечно же. Явная бессмысленная эксплуатация
каких-то стилистических формул.
Ю.Ф.: То есть можно сказать, что ваша композиторская практика идет от отрицания
исполнительской практики? Или не совсем?
А.С.: Нет. Мне кажется, я просто удачно забыл об этом опыте… Но сейчас меня интересуют совсем
парадоксальные абсолютно вещи. Например, Билл Эванс. Его гармонии без привязки к контексту.
Просто с точки зрения абстрактной акустики.
Ю.Ф.: Вот уже не секрет, что рояль во многом перестал быть «королем инструментов». Его статус
практически сравнялся с остальными музыкальными инструментами. Фортепиано прошло
длинный путь собственных интерпретаций: бетховенский “hammerklavier”, Шопен, Прокофьев,
Сати, The Beatles, Aphex Twin — все это разное. Но сейчас он рассматривается либо как колба, в
которой заключена романтическая эпоха, либо как странный мистический найденный объект,
смыслы которого утеряны и мы можем только догадываться, что они были. И вот сейчас в этой
ситуации вы пишете две большие пьесы подряд, одну, «Селену», на 3 часа, другую,
“Тихотворение”, на час. «Селену», вы даже назвали «opus magnum». Может быть, вы вообще
единственный современный композитор, который представил рояль как нечто значительное, но,
при этом, новое. Чем это объяснить? Это связано с вашим исполнительским опытом или с чем-то
другим?
А.С.: Думаю, никак не связано… «Селена» технически настолько сложна для меня, что я не мог
проверять руками ее ткань. Мог только предполагать, можно или нет это сыграть. Конечно, очень
сложная задача — писать для фортепиано, используя только традиционные его возможности, то
есть клавиатуру. В пьесе присутствует один-единственный флажолет, который я оставил, как
напоминание себе, что есть еще целый мир за гранью клавиатуры.
Ю.Ф.: А вот в этих сочинениях вы обращаетесь, пусть и парадоксальным путем, к истории
фортепиано или оно, скорее, лишено корней в вашем подходе? Вы отсылаете к каким-нибудь
конкретным «пианизмам»?
А.С.: Нет. Я наоборот стараюсь любым образом избежать традиций или даже аллюзий на них. Для
меня было бы крайне неприятно быть чьим-то последователем. Но от этого ведь не уйдешь…
Поэтому мне пришлось пережить некий большой опыт отчуждения от того, что я знал, хотел
применить и так далее. Ну та же «джазовость», пост-додекафонные или пост-сериальные
традиции и так далее. Вот сейчас я нахожусь, к сожалению, под большим влиянием Фелдмана, и
пытаюсь избавиться от этого любыми путями. Или тот-же Билл Эванс… Я, конечно, не могу
использовать его технику или эстетику. Поэтому я пытаюсь взглянуть на него не как на пианиста, а
как на некую абстрактную акустическую модель, очищенную от стилистической конкретики, что ли.
С этой точки зрения, написание «Селены» было для меня скорее опытом по изучению акустики.
Мне было интересно, как звучат эти аккорды безотносительно того, как они звучат, допустим, у
Фелдмана, Мессиана или Шаррино.
Ю.Ф.: Некое переоткрытие, своего рода…
А.С.: Может быть. И еще, конечно, ритмические структуры, которые вышли из «Теории механизмов
и машин». Ну вот это сочетание сложных ритмических формул, часто в одной руке. Репетиции
сложными ритмическими комплексами. Пожалуй, это главное.
В.Г.: У меня вопрос зеркальный Юре. Для тебя, как для исполнителя, те техники, которые ты
встречаешь в музыке… Они как-то пересекаются с тем, что ты обнаружил в «Селене»?
Ю.Ф.: Сложно сказать… В какой-то момент музыкальная литература, среда для меня приобрела
образ некоего вертящегося стола, который я могу поворачивать и брать только то, что кажется
необходимым именно в этом случае. Другими словами, прямого осознанного взаимовлияния
определенных техник, подходов у меня не происходит.
В.Г.: А ты замечаешь какие-нибудь параллели (не обязательно осознанно) в процессе игры?
Ю.Ф.: Я могу сказать про более ранний опыт, о котором я говорил, про Первую Сонату Булеза,
когда мне очень мешало ощущение, что какой-то принцип может стать универсальной формулой.
И в какой-то момент я понял, что это бессмысленно, даже деструктивно. Необходимо обрести
свободу учиться играть заново в каждом сочинении.
В.Г.: А с классической музыкой то же самое?
Ю.Ф.: То же самое. Все требует не только разной пианистической техники, но и разного мышления.
(...)
Проект ГРАУНД
08 мая 2016 г.
http://syg.ma/sygmafeatured/new-clavier-sysoiev-gorlinskii-favorin-chierkasova-biesieda-nakanunie-
kontsierta





















