





Yury Favorin © 2020


Юрий Фаворин
официальный сайт
Пресса 2015
Статьи



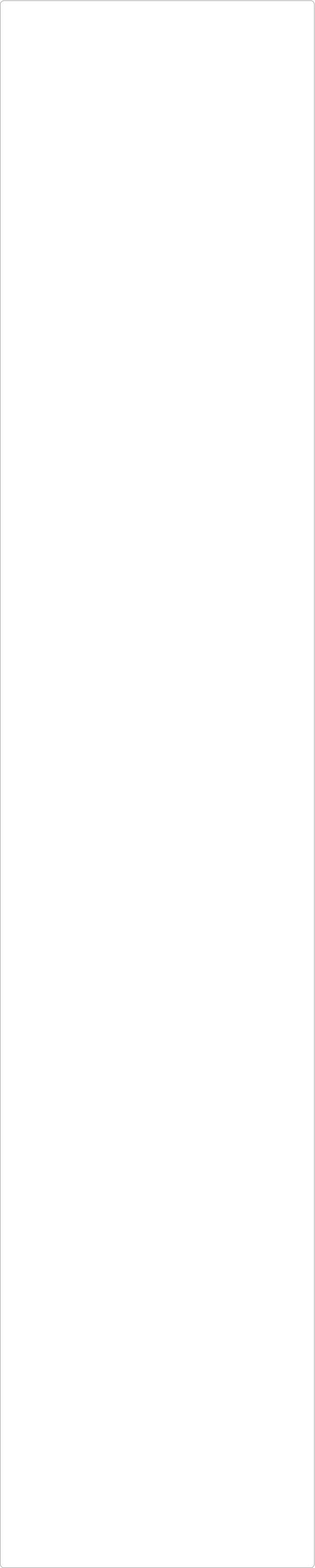
ЗА ГРАНИЦАМИ МЕЙНСТРИМА
Интервью
Иван
Соколов
и
Юрий
Фаворин
принадлежат
к
разным
поколениям
музыкантов.
Соколов
окончил
Московскую
консерваторию
в
1983
году
по
двум
специальностям:
как
композитор
(класс
профессора
Н.
Сидельникова)
и
как
пианист
(класс
профессора
Л.
Наумова).
Фаворин
окончил
консерваторию
в
2009
году
(класс
проф.
М.
Воскресенского),
лауреат
ряда
международных
конкурсов,
среди
которых
Конкурс
им.
Оливье Мессиана (Париж, 2007), Конкурс им. Королевы Елизаветы (Брюссель, 2010).
В
настоящее
время
Иван
Соколов
преподаёт
в
Московской
консерватории
–
читает
курс
«Теория
музыкального
содержания»,
ведёт
класс
специального
фортепиано
на
кафедре
исторического
и
современного
исполнительского
искусства.
Среди
новейших
сочинений
Соколова
–
монументальный
фортепианный
цикл
«31
прелюдия,
Речитатив
и
Эпилог.
Евангельские
картины»
(российская
премьера
–
2014
год).
Он
часто
выступает
как
солист
и
ансамблист,
многие
помнят
его
легендарную
интерпретацию
«Двадцати
взглядов
на
Младенца
Иисуса»
в
рамках
московского
фестиваля,
посвященного
Мессиану
(2008).
Юрий
Фаворин
сконцентрирован
преимущественно
на
исполнительской
деятельности.
В
его
концертных
программах
в
России
и
за
рубежом
представлены
сочинения
как
традиционного
классического
и
романтического
репертуара,
так
и
музыка
XX
века:
от
Николая
Рославца
и
Николая
Мясковского
до
Андре
Букурешлева
и
Ричарда
Барретта.
Исполнение
Фавориным
«Экзотических
птиц»
Мессиана
с
«Ensemble
Intercontemporain»
под
руководством
Пьера
Булеза
стало
заметным
событием
в
истории
интерпретации
новой музыки.
Общее,
что
объединяет
двух
музыкантов,
–
интерес
к
творчеству
ХХ
–
ХХI
веков
самых
разных
направлений
и
тенденций.
Иван
Соколов
и
Юрий
Фаворин
неизменно
остаются
первопроходцами
в
искусстве
интерпретации
музыки
новых
и
новейших
стилей.
В
беседах
с
профессором
Владимиром
ЧИНАЕВЫМ
пианисты
размышляют
об
альтернативных
формах
концертного
исполнительства,
о
новых
композиторских стилистиках и их влияниях на академические формы музицирования.
<…>
ЮРИЙ
ФАВОРИН:
«ХАРАКТЕРНАЯ
ЧЕРТА
ВРЕМЕНИ
–
СТРЕМЛЕНИЕ
ОТОЙТИ
ОТ
ФОРТЕПИАНОЦЕНТРИЧНОСТИ»
–
Ваш
репертуар
сочетает
в
себе
музыку
разных
эпох
и
стилей:
от
Шуберта
и
Листа
до
Мессиана,
Рославца,
Барретта.
Причем,
по
мнению
многих,
музыке
XX
века
Вы
отдаете
особое
предпочтение.
Как
вы
считаете,
есть
ли
встречное
движение
традиционной
классики,
романтики,
с
одной
стороны,
с
другой – музыки авангарда XX века, предполагающей свою, особую исполнительскую поэтику?
–
Я
стараюсь
не
разделять
эти
два
пласта,
ведь
на
самом
деле
их
не
два,
а
гораздо
больше,
потому
что,
особенно
в
последнее
время,
каждый
автор
создает
свое
направление,
даже
свой
индивидуальный
способ
мыслить;
все
меньше
остается
общих
точек
отсчета,
общей
системы
координат.
В
музыке
последних
десятилетий
мы
можем
регулярно
обнаруживать
такие
ситуации,
когда
для
того
или
иного
композитора
непосредственно
предшествующее
–
это
в
большой
степени
«слепое
пятно»,
он
смотрит
дальше,
вглубь
истории,
причем,
обращается
не
просто
к
музыке
той
или
иной
эпохи,
а
к
конкретному
автору
или
даже
отдельной
черте
его
стиля,
которую
он
может
развивать
определенным
образом.
В
исполнительстве,
по
моим
ощущениям,
можно
наблюдать
аналогичную
ситуацию.
Когда
после
исполнения
сочинений
современности
мы
возвращаемся
к
музыке
XVIII
или
XIX
веков,
мы
вольно
или
невольно
фиксируем
внимание
на
каких-то
элементах,
которым
раньше
не
придавалось
такого
значения
–
они
воспринимались
частью исторически оформленного целого.
Это
можно
сказать,
например,
о
музыке
Шуберта,
об
общности
его
идей,
самого
типа
его
мышления
с
композиторскими
идеями
XX
века.
Естественным
тут
было
бы
назвать
Мортона
Фелдмана,
его
специфическое
чувство
музыкального
времени.
В
первую
очередь,
в
его
поздних
сочинениях
конца
1970-х
–
середины
1980-х
годов
«Palais
de
Mari»,
«For
Bunita
Marcus»,
где
он
уже
уходит
в
сторону
чрезвычайно
длинных
медитативных
композиций
с
неопределенной
формой.
Можно
даже
сказать
о
форме,
в
которой
выровнен
рельеф:
сложно
найти
некое
подобие
кульминации
или
какие-то
иные
заданные
параметры.
У
него
скорее
некое
пребывание
в
музыке.
То
же
мы
слышим
и
в
поздних
сочинениях
Шуберта.
Множество
модуляций,
нет
кульминаций,
и
не
понятно,
куда
все
это
идет,
все
это
бесконечно...
Речь
тут
идет
о
преодолении
формальной
заданности.
Достаточно
посмотреть
на
тональные
планы,
временные
пропорции
его
поздних
сонат,
и
становится
ясно,
почему
форма
у
Шуберта
размывается.
Ведь
тональный
план
B-
dur’ной
сонаты
явно
не
направлен
на
то,
чтобы
создать
лаконичную,
рельефную
фигуру
музыкальной
формы.
Это
преодоление
времени,
которое
не
идет
вперед,
а,
скорее,
как
бы
ветвится
–
это
некое
пребывание
в
музыке...
А
ведь
Шуберт
создал
свои
поздние
сонаты
еще
в
20х
годах
XIX
века!
Можно
провести
еще
множество
параллелей
между
Шубертом
и
Фелдманом,
и
когда
мы
обращаемся
к
Шуберту
сегодня,
мы
невольно
учитываем
творческий
опыт
Фелдмана.
Видимо,
у
исполнителя
должен
быть
некий
артистический
резерв,
чтобы
тишиной,
паузами
и
длиннотами
(которые
у
Шуберта
также
явны
и
очевидны,
как
и
у
Фелдмана)
заинтересовать
слушателя.
Но
это
также
и
замечательный
вызов
для
исполнителя.
Правда, и слушатель, конечно, должен быть искушен опытом восприятия таких «странностей» в музыке.
–
Кстати,
в
ваших
интерпретациях
явно
присутствует
замечательное
чувство
формы,
выстроенности,
внутренней
логики,
что
можно
слышать
в
интерпретациях
и
Третьей
сонаты
Мясковского,
и
в
Прелюдиях
Рославца,
и
в
«Поэтических
и
религиозных
гармониях»
Листа.
В
Вашей
концепции
Лист
не
воспринимается
как
общепринятый
«романтик»,
и
это
как
раз
импонирует:
тут
новый
взгляд
на
известное
и
избегание
исполнительских
трафаретов.
Ваш
Шуберт
также
отмечен
присутствием
созерцательного
интеллекта
в
большей
степени,
чем
непосредственного
чувства.
Правомерно ли связать такие слушательские ощущения с Вашим опытом исполнения музыки XX века?
–
К
аналитичному
подходу
в
интерпретации
я
не
стремлюсь
осознанно.
Скорее,
это
процесс
безотчетный,
потому
что,
если
бы
я
все
это
осознал,
я
бы
не
смог
это
делать
именно
таким
образом,
и
это
парадокс.
Может
быть,
осознание
как
раз
и
привело
бы
к
утрате
ощущения
тех
взаимосвязей,
о
которых
только
что
шла речь.
–
Что, в таком случае, побуждает Вас к исполнению редко звучащей музыки XX века?
–
В
какой-то
момент
я
понял,
что
нет
никакой
логики
в
том,
почему
музыка
XIX
века
может
быть
играема
в
таком-то
объёме,
а
XVIII
или
XX
–
в
ином,
а
музыка
второй
половины
XX
века
и
вовсе
как
бы
не
существует.
Соответственно, я начал искать и нашёл для себя то, что стало в один равноценный ряд с классикой.
Одним
из
импульсов
к
интересу
стала
музыка
Пьера
Булеза.
Хотя
именно
Булез
обычно
рассматривается
как
один
из
наиболее
«закрытых»
композиторов
XX
века,
именно
аналитических,
условно
говоря,
«не
приглашающих».
Но,
как
ни
странно,
именно
это
свойство
его
музыки
меня
вдохновляло.
Вход
в
звуковой
мир
Булеза
был
для
меня
чем-то
вроде
чтения
«с
выражением»
телефонной
книги:
осознать
её
математическую формулу и обнаружить в ней очень сложные конфликтные семейные взаимоотношения.
–
Вашу
запись
Прелюдий
Николая
Рославца
я
склонен
расценивать
как
одну
из
лучших
в
истории
грамзаписи...
–
Мало
кто
разделяет
мою
увлечённость
Рославцем,
причём
не
только
среди
пианистов.
Его,
конечно,
ценят
как
новатора,
как
наследника
идей
Скрябина,
как
одного
из
первопроходцев
серийного
метода
композиции,
а
меня
очень
захватила
именно
его
музыка:
это
и
бесконечный
бурлящий
поток
(например,
в
Первой,
Второй
фортепианных
сонатах),
и
изысканные
интеллектуальные
конструкции
(как
правило,
в
миниатюрах).
Вспомним
его
синтетаккорды
(основополагающий
элемент
его
композиционной
техники
среднего
периода):
из
их
последовательностей
мы
никогда
не
выходим,
они
постоянно
реализуются
в
разных
комбинациях,
от
разных
тонов,
и
мы
все
время
пребываем
–
именно
пребываем
–
в
этом
изолированном,
замкнутом
в
себе
мире.
Меня
привлекает
такое
уникальное
сочетание
единообразия
гармонического
языка
с
очень
высокой
мерой
импульсивности,
непрерывного
становления.
Это
есть
и
у
позднего Скрябина, но у Рославца данная идея более ярко выражена.
–
Кто для Вас является наибольшим авторитетом среди композиторов новейшего времени?
–
Если
говорить
о
последней
трети
XX
века,
то
это
и
Жерар
Гризе,
и
Георг
Фридрих
Хаас,
Беат
Фуррер,
Сальваторе
Шаррино
и
многие
другие.
Однако,
особенность
в
том,
что
для
фортепиано
в
последние
десятилетия
пишется
крайне
мало.
В
практике
большинства
современных
композиторов
фортепиано
утратило
свою
былую
универсальную
функцию;
стремление
отойти
от
фортепианоцентричности
–
характерная
черта
времени.
Вместе
с
тем
показателен
и
более
широкий
взгляд
на
природу
исполнительства.
И
тут,
конечно,
исполнителю
необходим
некий
рывок
в
освоении
«новых
территорий».
Дело
в
том,
что
поставангард
(особенно
у
нас,
в
бывшем
СССР)
более
тесно
связан
с
концептуалистскими
идеями,
нежели
с
инструментальными.
Это
диктует
принципиально
иной
подход
и
к
самому
инструментализму.
Скажем,
у
Сильвестрова
«ностальгический»
тембр
фортепиано
–
это,
как
мне
кажется,
как
раз
уже
маркер
прошлого,
и
более
показательной
чертой
является
преобладание
отвлечённых
идей
над
инструментальными.
Характерно
в
этом
смысле
творчество
Владимира
Мартынова,
по-своему
–
творчество
Сергея
Загния,
Юрия
Ханона,
Ивана
Соколова
и
других.
Предтечей
этой
волны
я
бы
назвал
Галину Уствольскую.
Поделюсь
своими
ощущениями.
Когда
играешь
Уствольскую,
кажется,
что
рояль
не
является
инструментом
для
извлечения
звука
–
это,
скорее,
инструмент
для
извлечения
духа,
некое
ритуальное
пространство,
а
ты
как
исполнитель
словно
находишься
в
прострации.
Музыка
Уствольской
подобна
заклинанию
во
время
духовных
ритуальных
практик.
Сложно
это
объяснить
как-то
иначе.
Изоляционистская
позиция
присутствует
и
по
отношению
к
публике:
рояль
более
не
является
инструментом
«для
завоевания
аудитории».
–
Если
я
правильно
понимаю,
здесь
активизируется
исполнительское
мышление
некими
отвлеченными
категориями
в
большей
степени,
чем
инструментально-звуковыми.
Что-то
вроде
трансляции
неких
внеинструменталъных
истин...
Да,
действительно,
в
Пятой
и
особенно
Шестой
фортепианных
сонатах
Уствольской,
созданных
в
середине
1980-х
годов,
присутствует
эта
мощнейшая
«заклинателъная»
сила
–
в
нейтрально
громких,
повторяющихся
кластерных
вертикалях,
в
статике
монотонного
ритма.
Но
именно
в
такой
подаче
материала,
по-моему,
присутствует
огромный
заряд
экспрессии;
не
случайно
один
из
критиков
сравнил
эту
музыку
с
ярким
блеском
отшлифованных
мраморных
колонн.
Позже,
и
на
совсем
другом
материале,
к
идее
«новой
сакралъности»
пришел
Владимир
Мартынов,
которого
Вы
также
упоминаете.
И
с
Вашими
ощущениями
нельзя
не
согласиться.
Но
тут
возникает
другой
вопрос:
когда
исполняется
музыка
Фелдмана,
Булеза,
Рославца,
Уствольской,
наши
привычные
критерии
исполнительской
выразительности,
равно
как
и
нарративно-
психологическая
основа
интерпретации
(как,
скажем,
в
исполнении
Баллад
Шопена
или
«Сонаты
по
прочтении
Данте»
Листа),
кажется,
более
не
действуют.
Некоторые
вообще
считают,
что
без
таких
традиционных
слагаемых
интерпретация
(того
же
Листа)
вообще
едва
ли
возможна.
Ведь
эстетика
романтического
основана
на
искусстве
передать
движение
чувства;
не
важно,
будет
ли
это
экстравертное,
открытое
для
слушателя,
или
интимное
чувствование
музыки,
без
которых
трудно
обрести контакт с публикой.
–
Безусловно,
я
осознаю
важность
такого
подхода,
когда
играю,
например,
музыку
Алькана
или
ряд
сочинений
Листа,
но
лишь
некоторые
его
сочинения:
транскрипции
или
блестящие
виртуозные
сочинения.
Однако
у
Листа
ведь
есть
и
созерцательная,
нередко
и
откровенно
мрачная,
депрессивная
музыка,
и
было
бы
странно
в
таком
контексте
демонстрировать
«радость
общения
с
залом»,
ухарство
и
т.д.
Например,
в
поздних
пьесах
«Бессонница:
вопрос
и
ответ»
или
«Рок!»
Листа,
видимо,
в
последнюю
очередь
интересовало,
какую
конкретную
фортепианную
фигурацию
или
какое
«чувство»
употребить,
его
интересовали
иные
вещи.
Схематично
говоря,
Лист
как
бы
говорит
себе:
«вот
это
вопрос,
а
это
ответ,
и
они
должны
радикально
отличаться
на
музыкальном
уровне».
Это
именно
концепционный
подход.
Нечто
подобное я слышу и у Уствольской.
Может
быть,
в
том-то
и
дело,
что
новая
музыка
не
следует
за
какой-то
программой,
не
символизирует
что-
то,
а
становится
некой
абстракцией,
мерой
абстрактности
определенных
идей.
Проще
говоря,
когда
мы
слышим
Шопена
или
Листа
среднего
периода,
даже
Малера,
мы
понимаем,
что
эти
композиторы
находятся
внутри
некоего
языка,
на
котором
они
что-то
нам
рассказывают.
Но
когда
мы
слушаем
некоторые
поздние
вещи
Листа
или,
например,
Загния
(в
таких
его
сочинениях,
как
Соната)
мы
понимаем,
что
они
находятся
вне нарративных рамок языка – концептуальные идеи оказываются первичны.
–
Согласитесь
ли
Вы,
что
музыкальный
авангард
XX
века
утверждает
новую
исполнительскую
эстетику,
которая
не
была
востребована
предшествующими
стилями
и
эпохами?
В
первую
очередь
это
касается
медитативности,
отказа
от
нарративности,
отрешённости
от
непосредственного
чувствования, вытесненного аналитически-отстраненным мышлением за инструментом.
–
И
да,
и
нет.
Для
меня
в
первую
очередь
важно
обоснование
эмоционально-образной
сферы
исполнительства.
Без
этого
я,
наверное,
не
смог
бы
осилить
Булеза;
да,
я
смог
бы
освоить
текст,
но
не
смог
бы
полюбить
его.
Но
мне
было
важнее,
что
эта
музыка
во
мне
будит,
какие
ощущения
я
испытываю
от
неё.
Иначе
говоря,
тут
действовал,
скорее,
интуитивный
импульс,
чем
аналитический.
Какую
бы
самую
абстрактную
музыку
мы
ни
играли,
один
из
основных
вопросов
–
как
мы
её
чувствуем.
Вот,
например,
во
второй
части
Первой
сонаты
Булеза
две
линии,
два
голоса
пересекаются
между
собой,
и
воспринять
их
можно
просто
как
тематические
линии
двухголосной
инвенции,
а
можно
их
толковать
и
как
две
сплетающиеся
змеи.
Так
что,
и
в
Фелдмане,
и
в
Булезе,
и,
разумеется,
не
только
в
их
музыке
мне
трудно
отрешиться
от
образного
восприятия
звукового
материала,
каким
бы
отвлеченным
он
ни
был;
для
меня
это
невозможно,
да,
наверное,
и
не
нужно.
Даже
когда
в
нотном
тексте
выписано
sforzando
а
затем
pianissimo,
мы
понимаем
это
не
просто
как
абстрактные
«громко»
и
«очень
тихо»,
а
как
эмоциональный
жест
–
именно
как
звуковой
образ,
который
передается
слушателю.
Это
и
есть
то
самое
эмоциональное
сообщение
слушателю,
которое
он,
в
свою
очередь,
волен
обратно
«дешифровать»
в
абстрактную
идею
sforzando
и
pianissimo.
–
Ваши предпочтения в классическом репертуаре – Шуберт?
–
Не
только
он,
но
и
Бетховен,
а
также
Клементи.
Ведь
Клементи
–
очень
авангардный
автор;
не
могу
забыть
его
си
минорную
сонату,
названную
автором
«Capriccio»
(ор.
47
№
2),
которая
начинается
в
откровеннейшем
до
мажоре
на
5/4.
Это
по
меркам
того
времени
шокирует
сразу.
В
целом
же
клавирная
музыка
Клементи,
его
минорные
сонаты
–
это
для
меня,
наверное,
образец
интровертного,
трагического
мироощущения.
А
его
мажорные
сонаты
–
образец
бьющей
через
край
фантазии,
причем
самого
стихийного
свойства:
бесконечное
разнообразие
рельефов
мелодий,
непрестанные
находки...
Бетховен
тоже
в
числе
очень
важных
авторов.
«Вариации
на
тему
вальса
Диабелли»
–
это
для
меня
предел.
При
том,
что
эта
музыка
является
полной
противоположностью
шубертовской,
для
меня
как
исполнителя
есть
определённая
общность
подхода
хотя
бы
в
том,
как
мы
выстраиваем
эту
бесконечно
длящуюся
целостную
музыкальную
линию.
Здесь
скрыт
редкий
в
истории
фортепианной
музыки
исполнительский
потенциал.
Это
настоящее
интеллектуальное
пиршество,
которое
приводит
к
эмоциональному
сдвигу.
Ведь
Вариации
оформлены,
как
очень
сложная
драма.
В
этой
фактурной,
условно
говоря,
«этюдности»
заключен
колоссальный
художественный
эффект.
Сам
факт
бесконечных
сложных
хитросплетений,
через
которые
проходишь
в
течение
почти
целого
часа,
чтобы
достичь
итогового
результата,
подобен
переживанию
драмы
с катарсисом в конце.
–
Бетховен,
Клементи,
Шуберт,
поздний
Лист,
Рославец,
Булез,
Фелдман,
Устволъская...
вроде
бы
такие
диаметрально
противоположные
фигуры,
и
везде
чувствуется
поиск
чего-то
общего.
Существует ли, действительно, для Вас здесь некая общность?
–
Для
меня
на
сцене
всегда
важно
состояние,
связанное
с
погружением,
когда
ты
что-то
начал,
а
очнулся,
когда уже все закончилось. Ну и, конечно, авторы, которые настраивают на это, мне особенно близки.
Беседовал Владимир Чинаев,
профессор Московской консерватории
Piano Форум,
2015, №2 (22), с. 56, 61-64.





Но ведь это хочется слышать!
Снова
едут
поклонники
фортепиано
со
всего
мира
в
Хузум
на
фестиваль
“Раритеты
фортепианной
музыки”…
…
“Раритеты
фортепианной
музыки”,
которые
существенно
способствовали
музыке
Александра
Скрябина,
Николая
Метнера
или
Шарля
Валентина
Алькана
обретению
новой
родины
в
Германии,
уже
давно
завоевали
себе
важное
место
в
фестивальном
ландшафте,
за
ними
внимательно
наблюдают
международные
специализированные
журналы
из
Польши,
Германии
и
англоязычных
стран.
Один
постоянный
посетитель
с
академическим
музыкальным
образованием
следит
по
планшету,
как
юный
Юрий
Фаворин
–
не
только
феноменальный
виртуоз,
но
прежде
всего
прекрасный
логик
–
исполняет
шестиголосную
фугу
в
сонате
Алькана
(ор.
33).
При
всем
желании,
с
помощью
просто
слуха
и
зрения,
не
удается
установить,
какие
звуки
опускает
Фаворин,
хотя
произведение
превышает
тактильные
возможности
двурукого человека. <…>
Прогуливаясь
по
выставке
между
стилизованными
контурами
концертных
роялей,
читаешь
и
слышишь,
сколько
всего
оказалось
за
пределами
нашего
музыкального
мира:
Алькан,
этот
Гектор
Берлиоз
фортепиано,
Годовский,
полифонический
супермозг
с
двумя
самостоятельно
мыслящими
руками,
или
русские
композиторы
из
числа
преемников
Скрябина,
как,
например,
Анатолий
Александров
или
Исай
Добровейн.
Даже
Третья
фортепианная
соната
шестикратного
лауреата
Сталинской
премии
Николая
Мясковского
–
ее
тоже
исполнил
Фаворин,
после
того
как
без
труда
разделался
с
Альканом,
–
звучит
в
духе
экстатического
футуризма, наследовавшего Скрябину. ...
Ян Брахман
Frankfurter Allgemeiner Zeitung, № 197, 26 августа 2015 г. С. 12

















